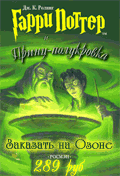Пролог
Мерлин мой, как я устал…
Снова белый потолок и мельтешение белых мантий — день за днём, неделя за неделей.Словно что-то можно изменить. Да, я мог бы снова дышать и, наверное, даже ходить… Но жить? Я не хочу. Не хочу. И не надо меня заставлять. В этом нет никакого смысла.
Лица сливаются в бесконечный фантасмагорический хоровод — чужие, незнакомые, доброжелательные, настороженные, несчастные — кто они?.. Я не знаю их, я не хочу их знать, я не хочу их видеть. Всё пустое.
Как утомительна была та поездка.
Каркаров выбрал самый трудоёмкий и неудобный способ. Зато самый эффектный. Конечно, главное — пустить пыль в глаза сопернику — это вполне в его стиле, и его совершенно не волновало, что одна половина нашей делегации мучилась морской болезнью и страдала от холода, а вторая — по очереди несла вахты. Сам-то он не выходил из своей роскошной каюты, обложенный книгами, свитками, перьями… Впрочем, мне ли жаловаться — мне тоже не было до этого особого дела, я готовился к предстоящим испытаниям. Да и каюта у меня была не хуже…
Ночь. Луна. Звёзды. Толпа школяров, тревожно переминающихся с ноги на ногу, — как всё это трогательно, торжественно и банально. Сколько раз я это видел на чемпионатах, кубковых играх… Впрочем, в этот раз всё по-другому.
Взгляд.
И словно остановилась на мгновение безумная карусель, её лицо вылепилось и приобрело отчётливость, в тот миг я точно понял: вот она… Вновь всё помчалось и понеслось, и все остальные смазались и потекли расплавленным воском.
Я ждал её — день за днём, неделя за неделей. Я знал, где найти её, я прятался за горой книг и ждал мига, когда, наконец-то, останусь один и смогу подойти к ней и заговорить. Я мучительно перебирал фразы — кто бы мог подумать, что это окажется настолько сложно!
Впрочем, со мной никогда не случалось ничего подобного; после того, как на меня рухнула вся эта слава, и хлынул золотой дождь, я сразу же вознёсся к таким вершинам, где не приходилось думать о том, как добиться желаемого. Это оказалось и приятно, и страшно — но мне не надо было думать, как подойти и заговорить, — так же, как сейчас эти увивающиеся вокруг девочки, все тоже почитали великим счастьем мой приглашающий жест.
Я знал, что она не такая. Она не должна была быть такой.
Я смотрел ей в затылок, следил за тем, как она быстро-быстро водила пером по пергаменту, поражался её трудолюбию и упорству, смотрел, как она задумчиво облизывает губы и хмурится, — и мне хотелось вычеркнуть три прошедших года из памяти. Мне хотелось родиться заново, чтобы впервые полюбить и пройти этот бесконечно-вечный путь от первого взгляда — в неведомую и неизвестную даль. Я никогда не ходил этой дорогой. Для меня всё заканчивалось, едва начавшись. Да, впрочем, и не начиналось.
Никогда.
Пока я не увидел её.
Слово.
Её губы дрогнули, она удивлённо вскинула глаза, и, улыбнувшись, ответила на моё приветствие — так легко и непринуждённо, словно ждала.
Да, всё оказалось куда проще и куда сложней — в ней не было ни капли жеманства и кокетства, она не искала в моих словах тайный смысл, не дулась и не хихикала. Она открыто смотрела на меня своими карими в рыжую искорку глазами, легко улыбалась и хмурилась — она оказалась естественна, непосредственна, удивительно умна и серьёзна. Мне было легко с ней. Словно я знал её всю жизнь.
Рядом с ней я забывал о том, что между нами несколько лет, забывал про противоборство наших школ и сотни километров расстояния, что разделяли нас совсем недавно и скоро лягут снова. Мы засиживались над книгами и свитками в библиотеке, не замечая, как одна за другой гаснут свечи на пустеющих столах, пока не оставались одни, и строгая крючконосая смотрительница библиотеки сначала деликатным покашливанием, а потом решительным жестом не напоминала нам о времени и не выпроваживала прочь.
Запах.
Он смешался у меня с запахом пожелтевших хрупких страниц и сморщенной кожи переплётов. Я пытался отделить его от запаха старых книг — нежный аромат, шедший от её пушистых, словно взъерошенных волос, от её кожи и одежды. Это был даже не аромат — от неё пахло просто свежестью и водой…
Я помогал ей с учёбой — конечно же, она не подозревала об этом, иначе никогда бы не приняла от меня помощи: она для этого слишком горда и упряма. И честолюбива. Но я невзначай упоминал книги, которые можно было взять в библиотеке или выписать, приносил свои учебники — хорошо, что половина из них была на болгарском: я часами переводил их ей, читая вслух…
Она тоже учила меня — и, опять же, не догадывалась об этом. Учила улыбаться, учила смеяться. Учила плакать — беззвучно плакать в подушку, задыхаясь от счастья, словно, я опять стал тринадцатилетним мальчишкой, и мне пришло письмо из юниорской сборной… Учила произносить своё имя.
Пусть она учит меня дышать: я был готов на всё.
Прикосновение.
Я впервые коснулся её руки, подавая ей перо вместо истрепавшегося. Меня ударила молния, я чуть не сгорел, захлебнувшись в собственных чувствах, — она же этого даже не заметила.
Она давно писала дальше, а моя рука всё горела, её касание жгло, как огненный дождь, несущий одновременно и жизнь, и смерть.
Когда, начиная Бал, мы стояли перед закрытыми дверями, её рука легла на мою: чуть дрожащая, лёгкая, почти невесомая. Я смотрел на её профиль, она была сосредоточенно-серьёзна, словно шла на экзамен, она волновалась и, кажется, чуть стеснялась.
Поцелуй.
Мой поцелуй был лёгок и случаен, я так и не понял, как осмелился на него. Вынырнув из глубокой мечтательной задумчивости, она вдруг, словно, ощетинилась, глаза заметали молнии, казалось, она готова меня испепелить. Но её негодования, выплеснувшегося на меня, было недостаточно, чтобы затмить секундную радость обладания. Она была со мной, моей — мне не нужно ничего большего: просто держать её руку и касаться прохладной щеки в этом школьном, почти детском поцелуе, каких у меня никогда не было.
Она поняла, почувствовала это. Она простила меня раньше, чем я успел вымолить у неё прощение.
Я нес её на руках.
Я рвался вверх, к свету, сквозь толщу воды; она со счастливой сонной улыбкой покоилась у меня на руках, прильнув к плечу — так по-детски доверчиво, так трогательно… С губ срывались пузырьки воздуха — воплощение жизни. Что видела она в этих грёзах?
Открыв глаза, она взглянула на меня, удивлённо вскинула брови и смутилась — а я стоял и ждал, сам не знаю, чего: слова, жеста? Но вдруг она развернулась и начала оглядываться — ища, как всегда, ища тех двоих, что неразлучно были с ней, что, сами того не подозревая, стерегли и прятали её от меня, не обращая на неё на деле ни малейшего внимания.
Не могу понять вправду ли они так слепы, — два этихбестолковых жизнерадостных молокососа, всё время ошивающихся около неё?
Подготовил: Spark,
Корректор: Free Spirit,
Слова благодарности моим бетам: Free Spirit, Корове рыжей, Критику и Heli