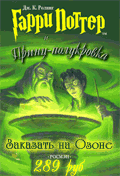Эпилог. Никакого волшебства не существует
Меня зовут Хьёль. А фамилию я вам не скажу. Я же просто хочу рассказать вам сказку.
Сейчас за окном темно, и я не вижу ничего, кроме отражения в нём электрической лампы. Словно там, на улице, есть ещё одна комната, где ровным матовым светом горит такая же зелёная лампа.
Эту лампу Ивка всегда не любила. Уж не знаю, почему. Говорит, что зелёный свет ей не нравится — но она обожает зелёные яблоки. А лампа не переносит Ивку. Это потому, что у лампы слишком сложный характер. Да и вообще, к старости она стала капризной.
Я ставлю горячую турку с кофе на подставку. Вдыхаю горький аромат, и ночная темнота становится ещё более пустой, чем прежде.
Я пришёл на одну из первых ивкиных выставок — как и все остальные, тихую и немноголюдную. В зале дыхание белых бетонных стен свивалось с жёстким электрическим светом, и казалось, что потолок вот-вот рухнет вниз, рассыпавшись тяжёлыми кусками на гладком сером полу. А потом всё это забылось, остались лишь картины. Наверное, именно так влюбляются, подумалось мне тогда. Ивка бродила среди посетителей в день открытия, словно тень, а я любовался ею.
Так мы познакомились.
Она может рисовать днями напролёт. Портреты, пейзажи, натюрморты — все необычные, удивительные, подёрнутые дымкой вол… Нет. Или всё-таки — «да»?
Никакого волшебства не существует.
Из турки я терпеливо переливаю кофе в чашку. На электронных часах белые палочки сложились в цифры. 2:00. Первый раз мигнули точки между ними. Два часа ночи.
Этот дом напоен Ивкой. Каждая вещь хранит в себе память о ней. Раньше, до нашего знакомства, этот дом был только моим. Но теперь для одного он слишком большой, и я боюсь, что в нём поселится одно знакомое мне выжившее из ума эхо.
Со стены на меня смотрят трое — одна из её самых ранних работ. Было множество других, я видел их все, и сквозь картины я шёл вместе с ними по лесу, всегда новому, хотя и непохожему, и слушал тяжёлый морской прибой, я даже заходил в их дома. Но эти, первые, их я узнаю где угодно. Я знаю их, и этого хмурого парня, и второго, с гитарой в руках, лениво прислонившегося к стене, и эту девушку с серебряными волосами. Они снова и снова появляются в ивкиных рисунках, и она лишь в самый последний момент несколькими небрежными штрихами уничтожает очевидное сходство. Но иногда Ивка забывает об этом, и тогда я вижу, что девушка всегда одинаково склоняет голову, так, что её волосы растекаются по плечам, а хмурый смотрит всегда одинаково гордо и обречённо. Я знаю, что первым ушёл именно он, как знаю, что другой никогда больше не возьмёт в руки гитару и что девушке осталось совсем немного до последнего шага.
Я наслаждаюсь тревожным вкусом кофе, и теперь тишина перестаёт быть серой и гладкой. Приходит настоящая, чёрная, ночь, и усталость съедает все краски в комнате.
Ив-ка. Как тонкое деревце ранней весной. Она вечно спокойная и слишком доверчивая, внимательная и насмешливая, неистощимая на выдумки. Удивительная. Нездешняя.
Она любит зелёные яблоки и чёрный кофе.
Две недели прошло с того дня, как она ушла. И всё бесполезно, два часа — два года, пропасть не станет меньше. Если только Ивка сама не захочет вернуться. Только ведь не захочет.
Я распахиваю окно, и в комнате сразу же становится холоднее. С реки южным ветром приходит сырой воздух. Весна. А за эти часы я выпил столько кофе, что, кажется, я — это только его чистая горечь и ничего кроме неё.
Когда-то я показал Ивке призрачную радугу. Такая радуга бывает только у нас, на севере, летом, только в шесть часов утра. Тогда небо особенное, словно стакан воды, в которой растворили крупинку синей краски, плеснули на ватман. Оно растянуто высоко и туго, и на нём нет ни морщинки.
Но сейчас весна, и небо совсем другое. Ночью над городком снова пронесётся Дикая Охота. Если вы прислушаетесь, вы услышите, как Король трубит в рог. Это Ивка научила меня слышать Дикую Охоту.
По выходным мы уезжали из городка. Туда, к озеру в глубине леса, которое питают подземные ключи. В этом озере хрустальная чёрная вода, а его берега покрыты стелющимся по земле мхом, в котором ноги утопают по щиколотку. Там Ивка нарисовала «Сарказм» — тот самый портрет, о котором после шумели все газеты.
На ощупь газетные статьи шершавые и угловатые. Их фразы неуклюжие и громоздкие, и каждый день буквы в них выцветают, отдавая свои чернила ночи. Ведь должна же темнота откуда-то брать чёрный цвет? И тогда она оживает. Ивка не рассказывала мне о дементорах, о них я узнал сам, из газеты, принесённой совой. «Дементоры покинули Азкабан». Ночью каждая тень становится чудовищем.
Ивка ушла, сказав, что ей надо возвращаться. Что она не может не вернуться, и попросила её не искать.
Кофе остывает, и горечь становится холодной. Если немного подождать, может быть, она застынет чёрным льдом. Говорят, так выглядит обсидиан. Я не знаю, что это, но мне не нравится слово.
А первый мартовский дождь всегда тёплый, и, если приглядеться, в его каплях уже уютно устроилась весна. Но потом снова приходит вьюга, и от дождя остаются лишь чёрные зеркала на земле, которые, наверное, тоже похожи на обсидиан, но зато порой в них застывает отражение неба. В таких зеркалах, если знаешь как, можно прочитать свою судьбу.
Ивка не верит ни в приметы, ни в прорицания. И ночи она не любит. И ещё она не любит луну — почти так же, как и зелёный свет. Она не любит много вещей.
Её работы всегда выставлялись без рам, и мы оба считали, что это правильно. Тонкие листы картона с застывшими на них лицами — разными и одинаковыми. Однажды, ещё осенью, она сожгла три портрета. Ветра не было, и пламя невысоко плясало вдоль толстых веток, обугливая их кору, и весь сад утопал в запахе умирающих листьев. Когда она бросила рисунки в огонь, пламя взметнулось — неожиданно высоко, и картон, вспыхнувший было алым, спохватился, начал свёртываться и чернеть. Она оставалась у костровища до ночи, пока всё не прогорело дотла. Веткам, наверное, не хотелось сгорать, но Ивка всегда была терпеливой, и, наконец, осталась только мягкая тёплая зола. Это было в последний жёлтый день осени.
— Ради этого? Ты оставила всё ради этого?
Я до сих пор вижу, как презрительно кривятся губы этого незнакомца. Это было воскресенье, и на выставке было шумно, но когда он и его товарищ вынырнули из толпы и особыми, мягкими кошачьими шагами пошли к нам, все звуки словно исчезли, и остались только мы четверо. А для Ивки — для Ивки, наверное, только они втроём.
— Андрей, Искрен…
— Ради. Магглов. Маггла. — В его глазах живёт бешенство, пополам с безумием, так смешиваются солнце и сумерки на закате. А его спутник молчит, и только огромная тварь смотрит наружу его глазами. Я понимаю, что он последний, но не успеваю поймать эту мысль за её тонкий хвост, она ускользает между пальцев, и остаётся только холод, зимний, неправильный. Но тут золотые облака из глаз первого расползаются пыльцой вокруг нас, и я вижу, что их металл испачкан красной краской. Ивка знает, как она называется правильно, а я никогда не запоминал названия красок и знаю только, что такой, наверное, хорошо рисовать закат.
На закате мы обычно сидели на холодной веранде, оплетённой снаружи диким виноградом, и засыпающее солнце, бросая свои лучи сквозь его сухие лозы, вырезало на полу причудливые тени.
А утром, ещё когда трава была мокрой от росы, мы выходили на крыльцо и пили травяной чай, который заваривала Ивка. Думаю, она набирала в чайник воду из того самого озера, потому что чаинки всегда танцевали один и тот же вальс, а заставить их танцевать одинаково почти невозможно. Белый влажный туман тогда ещё лежал у самой земли, и казалось, будто старый можжевельник у забора растёт прямо из облака. А высохшая ещё три года назад сирень казалась настоящим привидением.
— Привидения? Конечно же, они есть. — Ивка грустно улыбается, а её рука, словно сама по себе, рисует в альбоме проступающий из стены жемчужно светящийся силуэт.
Это ничего, что она рисует простым карандашом. Я вижу цвета почти так же ясно, как она, я знаю, что камни старые и тёмные и что они плотно прилегают друг к другу. Я вижу, что глаза у привидения карие, но спросить не успеваю: Ивка изгоняет цвет прочь, и остаётся лишь безликая фигура.
— У неё забрали душу, — задумчиво говорит Ивка и очень аккуратно выводит внизу листа непонятную мне вязь. Но потом я читаю строчку наоборот. Катарина.
Бывает, что призраки из прошлого приходят к Ивке совсем часто. Тогда она забирается на мансарду, чтобы свернуться клубком в старом пыльном кресле. Она кладёт руку под щёку, и потом, когда она встанет и спустится вниз, браслет из алых и оранжевых нитей оставит на её скуле чешуйчатый отпечаток. Тогда Ивка-деревце сбрасывает кору, как ящерица, и меняет цвет, из тёпло-золотой становясь зелёной с серебром. Я зажигаю в доме камин и готовлю кофе.
Кофе спасает от сна, и тогда мы молча разговариваем и слушаем темноту. В такие ночи Ивка написала те работы, которые потом назвали лучшими. Но по утрам у неё совсем больные глаза. Такие же глаза у неё бывают после превращений в полнолуние.
А порой прилетают совы. Наверное, они устали летать на край света, где ночь и день никак не могут решить, сколько им длиться. Во всяком случае, у них ещё ни разу не получилось договориться больше, чем на неделю, и совы чувствуют, что в нашем городке что-то не так. Может быть, поэтому они улетали без ответа.
Электрические часы не хотят тикать. На самом деле они умеют это делать, просто им не хочется. И ещё они тоже скучают без Ивки.
Если долго-долго слушать, то услышишь, как шуршат стрелки часов в ратуше. Только надо выбрать час так, чтобы дома шептались не слишком громко, иначе часы обижаются на то, что их не слушают, и умолкают. А ведь они знают много интересного, хотя никогда и не заканчивают тех историй, которые начинают рассказывать. Ивка говорит, что часы в ратуше давным-давно сошли с ума. Но, думаю, ей просто не хочется, чтобы я услышал конец той истории, которую часы начали в ночь Лунной Крысы в декабре.
Это очень старая история про предательство, дружбу, свободу и мятежность. «Старшие» — Ивка назвала так одну из своих самых первых работ. А часы рассказали мне их историю. Не до конца, но я знаю, что было там, где одна стрелка догнала другую. Глава Круга, когда-то сумевший повести за собой, погиб от рук одного из своих. Другой, тот, что легко читал мысли и чувства, занял его место. Третья, девушка, которая всегда оставалась победительницей, в этот раз проиграла и умерла. Четвёртую сожрало изнутри её пламя, она отдала слишком много, больше, чем могла, и теперь от неё осталось лишь безумие, то же, что притаилось во взгляде пятого, того, со сломанными крыльями, в котором ещё живут солнце и сумерки.
А может быть, это мне лишь грезится, когда я смотрю в тёмное глубокое окно. Рассвет будет нескоро, но холодный воздух уже можно разрезать на тонкие полоски и аккуратно сворачивать их, чтобы они занимали поменьше места. Ведь скоро придёт лето, которому понадобится его больше, намного больше, чем весне.
Потому что летом всё решится. Летом ночи становятся мягкими и бархатными, и в их темноте ничего не стоит утонуть, особенно если распахнуть окна. Тогда звёзды кружатся над головой, и наступает время выбирать нужную тебе тропинку, ошибаясь уже в который раз.
Об июле говорила та девушка, которая приехала к нам две недели назад. Вокруг неё вились тревога и безумие, лёгкое, как память, но когда она шла, её странное прошлое опадало за ней на белый снег чёрными перьями. И когда она взяла чашку с горячим чаем, оставшиеся перья посветлели и почти растворились в его тепле, и она заговорила. Пальцы, покрытые старыми ожогами, едва заметно вздрагивали, когда она называла одно имя, повторяя его снова и снова. Ивка слушала, но я видел, что она рисует, только не карандашом, а взглядом, на светлой деревянной стене. И когда алхимик замолчала, Ивка обернулась и показала мне глазами на картину, и я кивнул в ответ. Я тоже видел этот витраж из тусклых стёкол и тоже знал, каким будет последняя картинка на нём.
Потом над городком пролетел самолёт, и его ровный шум разбил витраж вдребезги. Самые мелкие осколки ещё почти неделю лежали на полу, вспыхивая разноцветными искрами, если на них падали солнечные лучи.
Ровно в половину третьего электронные часы запищали. Я поднимаюсь, выпиваю последние капли уже совсем холодного кофе и чувствую, как стеклянным дождём с моих плеч падает ночное безумие. В голове так ясно, как бывает лишь ночью, и предметы возвращают себе привычные очертания.
Никакого волшебства не существует. Сказка закончилась.
Из нижнего ящика стола я достаю старую записную книжку. На несколько секунд мне становится холодно, как перед шагом в ледяную воду, но потом тепло возвращается. Я стряхиваю с одежды последние обрывки темноты и выхожу из комнаты.
Подхожу к двери и надеваю плащ. Сегодня утром обещают дождь.
Я найду Ивку. Я знаю, откуда начинать. Сейчас я вызову такси и поеду в аэропорт, а там возьму билет до Софии. Думаю, я смогу разыскать своих друзей с Чёрной площади.
Не знаю, что происходит там, в их волшебном мире. Я просто хочу найти Ивку и угостить её зелёным яблоком, пусть оно совсем и не волшебное.
А нашу сказку вам расскажет второй мартовский дождь. Тот, что через пять часов с четвертью пойдёт здесь, а ещё через час — в вашем городке.
Такой дождь хорошо слушать вдвоём, грея руки о горячие чашки. А будет ли в них чай или кофе, не так уж и важно.