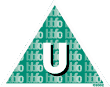
Сертифицировано для всех читателей.
Фик переведен в подарок для Gabrielle Delacour.
Как это ни банально, но историю пишут победители, лучшие друзья и наследники, вооруженные толстыми розовыми очками. Джеймс Поттер завоевал Лили Эванс, и в результате она запомнилась всем, как проходной персонаж из биографии ее собственного сына. Но Лили никогда не была «кисейной барышней» и воплощением женской мягкости, как пишут о ней в учебниках. Она не была «милой». Хорошей — наверное (что бы ни означало это слово), но Лили Эванс была слишком пылкой, страстной и очаровательной девушкой, чтобы ей можно было дать такое слащавое определение, как «милая». Это не значит, что Лили была слишком приземленной, но она и не была фарфоровой статуэткой, которую все так упорно пытаются возвести на пьедестал. «Мать Гарри Поттера». «Жена Джеймса Поттера». «Жертва Вольдеморта». Глупые, плоские и поверхностные фразы, которые могут относиться к кому угодно, но только не к ней. Слова, не способные передать ни свет ее улыбки, ни блеск ее волос, ни искренность ее смеха, ни едкость остроумия. Она была живым человеком: таким хрупким, сильным и сводящим с ума, каким только может быть создание из плоти и крови. Впоследствии меня возмущали размытые описания, которые давали ей люди, едва ее знавшие, чьи имена она бы и не вспомнила, даже если сталкивалась с ними во время учебы. От одних только статей в «Пророке» можно впасть в ярость. Эти люди совершенно не представляют, о чем говорят, и образ, который они пытаются сохранить для потомства с помощью переслащенных эпитетов, не имеет ничего общего с Лили Эванс.
Я жалел ее сестру. Только не подумайте, будто я не вижу иронии. Конечно, я презираю ее сестру всем сердцем за маггловскую кровь, которая течет в ее жалких венах, и все-таки мне ее жаль.
На самом деле я жалел себя. Я понимал, каково это — любить Лили Эванс и в то же время ненавидеть ее, и это чувство неизбежно роднит меня с ее сестрой. Малышка Пэт восхищалась Лили и презирала ее с той ослепляющей страстностью, на которую только способна младшая сестра, разлученная с предметом своего обожания и страдающая от того, что о ней забыли. В раннем детстве, как рассказывала мне Лили, они души друг в друге не чаяли, и пока Лили не исполнилось одиннадцать лет, одна только Петуния знала о ее способностях. Это была их тайна.
Как я понял впоследствии, Петуния не умела прощать, и в этом я при всем желании не могу ее упрекнуть.
Я видел ее сестру на вокзале Кинг-Кросс первого сентября: она стояла, надувшись, рядом с родителями, провожавшими Лили на платформу, и их обалдевшие лица, когда Лили прошла сквозь барьер, показались мне невероятно смешными. Лили была тоненькая и бледная, словно цветок, давший ей имя; неуклюжая, как и любая магглокровка, впервые надевшая мантию; она была обвешана сумками и коробками и судорожно сжимала палочку. Ее волосы выбивались из тощих косичек, а когда мы приехали в Хогварт, она и вовсе их распустила. Я и представить себе не мог, как много эта пигалица будет для меня значить, но она сразу привлекла мое внимание ярко-рыжими волосами и неуверенным видом. Было в ней что-то особенное даже в то время, когда девочки для меня почти не отличались от мальчиков, а любовь и желание казались абстрактными понятиями, не представляющими ни малейшего интереса. И если бы я тогда знал, что она разобьет мое сердце, у меня возникло бы сильное искушение заавадить на месте или ее, или самого себя.
Поначалу Лили писала письма родителям чуть ли не каждый день; она брела в совятню с опущенной головой, сжимая в перепачканных чернилами пальцах очередное жалобное и не слишком грамотное свидетельство тоски по дому. Короче говоря, она была обычной магглорожденной первоклашкой и гриффиндоркой до мозга костей, и я понять не мог, чем она меня зацепила. Но я заметил ее и продолжал замечать. Со временем сов становилось все меньше, годы шли, и мы постепенно взрослели. Гораздо позже я начал догадываться о том, как менялись отношения между Лили и ее младшей сестрой, пока Лили училась в Хогвартсе, а Петуния, лишенная ее покровительства, была вынуждена ходить в маггловскую школу. Я понял, что такое ревность. Иногда мне казалось, что я понимаю ее сестру лучше, чем сама Лили.
Она курила. Представляете? Еще одна маленькая подробность, о которой умолчали биографы и журналисты. Вот так прозаично все и получилось: мы встречались время от времени в каком-нибудь укромном уголке, облюбованном курильщиками, с подростковой надменностью вдыхали запах бунтарства и дрожали на ледяном ветру, проникающем под мантии. Не многие гриффиндорцы позволяли себе такие простые запретные удовольствия, но Лили никогда не была паинькой. Она курила маггловские сигареты «Мальборо» и имела наглость насмехаться над моим «Нероном».
— Какой надо быть идиоткой, — спросил я у нее, — чтобы добровольно забивать свои легкие этой маггловской копотью, когда от нормальных сигарет не бывает никакого вреда? — Мы не были друзьями, но я хорошо ее знал по совместным занятиям зельями и арифмантикой и после многих часов, когда я смотрел на нее в Большом зале. Она улыбнулась, и при виде ее сияющих глаз я утратил дар речи и неожиданно почувствовал себя неловким, неуклюжим и готовым ради нее на все. Сопляк.
— Трусишка, — сказала она, и в ее голосе было столько обещания, а дым едкого маггловского табака окружал ее волшебным ореолом. Лили Эванс курила, шутила и целовалась со слизеринцами. Вернее, с одним слизеринцем. Со мной. И совершала другие неподобающие поступки. Однажды она призналась мне по большому секрету, что Сортировочная Шляпа чуть было не отправила ее в Слизерин. Я разозлился, обрадовался, и совершенно не удивился. Она была очень умной, а ее способности производить нужное впечатление и выходить сухой из воды я мог только завидовать. Но тогда, в первый день, она выбрала Гриффиндор, а в конце выбрала Поттера. Я так и не простил ее за то, что она так сильно ранила мою гордость. Вернее, сердце.
У мальчишки ее глаза и самодовольное лицо Джеймса Поттера. Моя ненависть безгранична.
Я думаю, ее сестра меня бы поняла.
