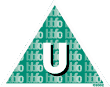Ну вы же понимаете, многодетная мать. Всегда найдется какая-нибудь девочка, которой нужно с кем-то посоветоваться.
Им нужно знать, было ли мне больно, страшно, тошнило ли, менялось ли настроение, толстела ли я после родов и каким заклинанием поменять цвет пинеток с голубого на розовый.
Они взбалмошные, смущенные новой ролью, гордые собою, хрупкие, уязвимые и на все имеющие свое мнение большие девочки. Глядящие на меня как на наставницу. Думающие в следующее мгновение, что я просто клуша, наседка, отказавшаяся от жизни ради детей. И что я — истинная Мать, пример для подражания и само воплощение женской сущности.
Я впускаю их, таких маленьких и глупых, в свою душу. Я рассказываю им незначительные для стороннего человека мелочи, которые для меня (и для них, слушающих с улыбками и аханьем, с широко распахнутыми глазами) — важнейшее, что человек может рассказать о своей семье.
Оладьи сегодня выходят особенно румяными и пышными, и Молли плачет оттого, что Артур не успеет заскочить домой между орденом и министерством и в кои-то веки по-человечески позавтракать.
Молли корит себя за то, что так глупо плачет. Она вообще стала ужасной плаксой. Ее мальчики не делали ее такой размазней. Может быть, в этот раз у нее будет девочка?
Ведь, в конце концов, когда она носила малыша Перси, или Чарли, или Билли, никогда такого не было. Не то что беспричинных слез — вообще никаких.
В первый раз она была спокойна как удав все девять месяцев. Ничто ее не могло пронять, даже восторженные всхлипы тетушек. Она придумывала какой-нибудь новый рецепт, пекла себе коржики и была счастлива в своей маленькой гостиной с книжкой или за шитьем. Когда Чарли носила — в ней взыграл воинственный дух, и тут уж никто и не пытался с ней спорить; быстро поняли, что оно того не стоит. А с Перси она вообще все время была в отличном настроении — просто так, без всякого повода.
А теперь плачет и плачет. Наверняка будет девочка.
Я рассказываю им, как восьмилетний Билли, когда я носила Рона, выучил с моей палочкой Connexio и ходил за мной хвостиком, чтобы вызвать папу в случае чего. Это было его первое заклинание.
Я рассказываю, как Артур подхватил какую-то ужасную маггловскую простуду и три недели жил в своей каморке на работе — боялся заразить новорожденную Джинни.
Какой гордый вид был у Перси, когда ему впервые доверили погулять с малышом Ронни.
Как Чарли на первом курсе Билла утащил старую Артурову метлу и сбежал к брату в Хогвартс; поймали его только на третий день в Уэльсе. И как трехлетний Рон рыдал за компанию со мной, мертвой хваткой вцепившись в мой фартук, пока Годива не аппарировала вместе с Чарли в Пристанище.
Как для Фреда пришлось делать вторую колыбель, потому что они с Джорджем до трех лет безжалостно мутузили друг друга, если оказывались достаточно близко для этого. И как они теперь недоверчиво смеются, если я, или Артур, или Билли с Чарли вспоминают об этом.
Молли думает о своей будущей дочке, и сердце просто разрывается от какой-то щемящей нежности и жалости. Она утыкается лицом в кухонное полотенце и плачет навзрыд сама не зная о чем. Плачет неудержимо, даже не опасаясь напугать играющих в соседней комнате малышей.
В прихожей приглушенно хлопает дверь, и Молли на мгновение напрягается и затихает, хотя знает, что к ним прийти не смогут. Артур скрипит половицами, топает ботинками, стряхивая выпавший под утро снег, и с невнятным рыком подхватывает прибежавших на шум Билли и Чарли. Те смеются и повизгивают, а потом прошныривают обратно в гостиную. Артур, похоже, опять всучил им по шоколадушке — и это до завтрака.
Молли спешно промокает полотенцем лицо, но веки все равно наверняка красные и опухшие, да и слезы продолжают катиться из глаз. Молли ничего не может с этим поделать, хотя плакать больше не о чем, ведь Артур-то пришел. Чего же теперь плакать?
Я рассказываю им, как Билли придумывал близнецам на ночь сказки, а близнецы не желали их слушать и кидались в Билла подушками. Но он все равно каждый вечер приходил к ним и рассказывал сказки — потому что за дверью их комнаты таился Перси, который утверждал, что он уже слишком взрослый, чтобы слушать детские сказки. Потом Билли стал рассказывать свои сказки Рону, хотя Ронни их тогда еще даже не понимал. А потом Билли уехал в Хогвартс, и сказки рассказывать стала я. Но Перси приходил слушать их, только когда на каникулы приезжал Билли.
Я рассказываю, как Фред с Джорджем укокошили Ронова клубкопуха. Стащили у меня палочку и превратили его в бладжер (Минерва не поверила, когда я ей рассказала), да вот только он расколдовался точно в тот момент, когда Фред ударил по нему битой.
Как Джинни не отлипала от Билла, когда он появлялся дома, и как это льстило самому Биллу. И как Ронни, который все остальное время был Джинниным любимчиком и вообще поддержкой и опорой маленькой сестренки, однажды ночью в порыве ревности под корень обрезал Биллу волосы.
Молли ждет, что Артур подойдет, обнимет ее, вытрет слезы, поцелует в нос и заявит, что жена у него совсем глупышка.
Артур и правда подходит и обнимает ее. Крепко-крепко обнимает, прячет лицо в ее всклокоченной с утра шевелюре и замирает. Молли обнаруживает, что его бьет едва ощутимая дрожь.
— Доброе утро, родная, — а голос почти спокоен. Но Молли уже слышала однажды почти-спокойствие в этом голосе.
— Правда доброе? — спрашивает Молли в некоторой надежде услышать в ответ «да», но после нерешительного молчания слышит обреченное «нет». И тогда Молли, тщетно пытаясь отстраниться от мужа, задает самый важный вопрос:
— Кто?
— Гидеон и Фаби, — шепчет в самое ухо Артур, все плотнее прижимая Молли к себе, и она, прежде чем до ее сознания доходит смысл сказанного, замечает, как срывается его голос.
Я рассказываю им, как на Рождество сикль в пироге непременно достается Чарли, и все остальные каждый раз пытаются поймать его на мошенничестве, а он неизменно утверждает, что ни при чем.
О том, как близнецы с первых доходов от своей нелепой лавки подарили мне мантию и, краснея впервые на моей памяти, заявили, что вообще-то собирались подарить антикварный набор сковород, но оказалось, что ими кто-то уже пользовался.
Как Джинни боялась в детстве садовых гномов за их визгливый голос, и как однажды утром я обнаружила ее в саду раскручивающей с остервенением на лице одну весьма упитанную истерически вопящую особь.
Как в шестой день рождения Рона близнецы взялись напечь ему блинчиков — и напекли, вот только у каждого блинчика было по восемь длинных кривых «лапок». Мой Рон ненавидит пауков.
Как Перси за это тащил их на чердак за уши, а притихшие близнецы не смели сопротивляться, хотя потом устроили две недели «показательного бояния грозного Персиваля Уизли».
Как Рон поколотил соседского мальчишку на три года старше за то, что тот высмеял его «дурацкую» одежку, и с какой гордостью носил полученный синяк на пол-лица. И как запретил мне его свести, и как расстроился, когда синяк сошел сам.
Молли перестает плакать.
Молли еще долгих три месяца пытается оградиться от осознания того, что у нее больше нет братьев. Где-то на задворках сознания постоянно крутится мысль, что еще хотя бы два дня — и она вручила бы им рождественские свитера с их инициалами: «F» для Фабиана, «G» для Гидеона. Она не интересуется подробностями убийства, не смотрит газет, не проклинает Долохова, который, единственный из шести убийц, пришедших в дом Прюиттов — ее, Молли, родной дом, — сумел остаться в живых. Не принимает соболезнований.
Она вообще не думает о том, что ее братья убиты.
И лишь в тот день, когда вместо ожидавшейся девочки рождаются двое мальчиков, в тот день, когда Артур говорит ей: «Ты знаешь, как их стоит назвать», — лишь в тот день наконец рушится стена, которую Молли старательно возводила между собой и миром. Она оплакивает братьев, прижимая к груди сыновей.
Разумеется, я не рассказываю им всего — и не всегда говорю правду. Например, я говорю, что вывязываю на свитерах близнецов их инициалы, «F» и «G», чтобы Фреду и Джорджу было можно в очередной раз поменяться ими, разыграть меня и позубоскалить на тему того, какая же я мать, если Дреда от Форджа не отличу.
На самом деле это не так. Просто мне чуть легче оттого, что эти инициалы по-прежнему кто-то носит на свитерах.
Но девочкам нужно слышать другое. Им нужно быть счастливыми одним только ожиданием ребенка.